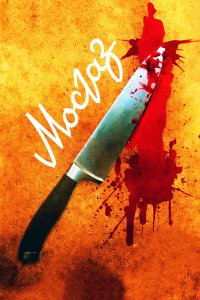Шурик присел на скамейку в парке. Солнце грело спину, а он ловил взгляды прохожих. Каждому, кто замедлял шаг, он начинал рассказывать. История выходила невероятной, будто из кинофильма.
Он говорил о Нине. Девушке со смехом, который звенел, как стеклянные бусины. Она была студенткой политеха, комсомолкой-активисткой. И просто красавицей — это Шурик подчеркивал особо. В его рассказе она всегда появлялась в луче света: на собрании, в библиотеке, на субботнике.
Их встреча, по его словам, была чистой случайностью. Он помог поднять рассыпавшиеся книги у главного корпуса. Она улыбнулась, и всё завертелось. Прогулки до рассвета, споры о стихах Вознесенского, билеты на премьеру в драмтеатр. Он описывал детали: как ветер играл её рыжей прядкой, как она хмурила брови, читая лекции о дисциплине.
История имела все признаки настоящей саги. Здесь были и ревность — какой-то аспирант с гитарой, и испытания — её отправка на картошку, и моменты чистого счастья. Шурик рассказывал о том, как они сбежали с комсомольского собрания, чтобы просто есть мороженое на набережной.
Слушатели реагировали по-разному. Кто-то улыбался, кто-то торопился по делам. Но Шурик не обращал внимания. Он говорил ровно, его голос то крепчал, то становился почти шепотом. Казалось, он не просто вспоминал, а заново проживал каждый миг.
Финал истории оставался открытым. Шурик намекал на разлуку, на письма, которые перестали приходить, на жизнь, которая развела в разные стороны. Но в его интонации жила надежда. Будто где-то там, за поворотом аллеи, она могла появиться — всё та же студентка, комсомолка, красавица.
Он сидел на скамейке, а его слова висели в воздухе. Легкая грусть смешивалась с теплом. Прохожие шли дальше, унося с собой кусочек этой странной и прекрасной истории. А Шурик ждал нового слушателя, чтобы вновь оживить в памяти тот далекий образ. Образ, который, возможно, был для него главным сокровищем.